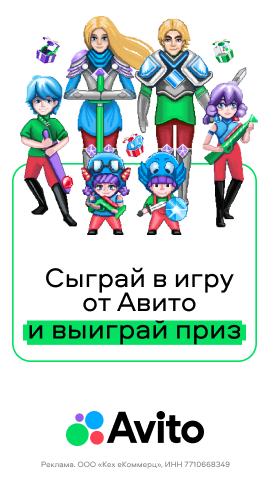Журналист Сергей Князев:
Ровно три года назад, 7 августа 2015 года, ушел из жизни Самуил Аронович Лурье, писатель (он предпочитал говорить: литератор) такого масштаба, что по отношению к нему любое определение в превосходной степени будет недостаточным.
Лет пятнадцать назад в одной литературной компании я к месту воспроизвел bon mot любимого автора и имел успех. Тут же добавил, помня о «копирайте»: «Как сказал Самуил Лурье». И разумеется, был спрошен: «А кто это?» Спрашивала молодая женщина – в ту пору редактор отдела культуры влиятельного федерального еженедельника, литературная критикесса, позднее – известная писательница и киносценаристка. В этом невежестве: редактор отдела культуры (!) и прозаик (!!) не знает Лурье (!!!) – не было чего-то из ряда вон – спустя 15 лет имя нашего современника, лучше всех из наших современников писавшего о литературе, да что там – лучше всех писавшего на русском, – тоже, знаете ли, не на слуху.

Лекция С.А. Лурье в Музее современного искусства Эрарта. Фото: Youtube
1500 экземпляров переизданной четыре года назад книги «Литератор Писарев» не распроданы до сих пор. Пятьдесят лет работы, полтора десятка книг – в основном небольшие изящно составленные сборники недлинных шедевров.
«Прочтя 30 томов Тургенева и 60 томов о нем, я пишу три страницы непонятного текста о том, как я понимаю суть творчества этого писателя». Тридцать лет и три года службы в журнале «Нева». Несколько литературных премий (потешных, как он их сам называл): имени Вяземского, журналов «Нева» и «Звезда». Диплом премии И. П. Белкина «Станционный смотритель» – как лучшему литературному критику года. А также диплом премии А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок». Человеку 70 лет, а ему – диплом. С пионерским приветом, как говорится. Петербургской журналистской премии «Золотое перо» с формулировкой «За вклад в развитие журналистики» С.А. Лурье был удостоен в 2014 году, уже будучи смертельно больным.
Всё понятно: амбиции, зависть к таланту, демоны сочинительства, внутривидовая конкуренция, но неужели, с тоской думал я при жизни Лурье, его коллеги – литераторы, критики, разного рода культурные функционеры – и вправду не понимают масштаба его фигуры? Ну дайте, наконец, человеку какую-нибудь «Большую книгу» или «Ясную Поляну» за заслуги, чтобы спокойно работал над большой вещью, не отвлекаясь на скверно оплачиваемую поденщину; организуйте стипендию хотя бы на год, грант какой-нибудь, синекуру. Воздастся же сторицей – новыми блестящими текстами нам всем на радость и в утешение. Но нет. Никаких грантов с синекурами не случилось.
Самуил Аронович Лурье никого ни о чем для себя никогда не просил (за других хлопотал много – и часто успешно), справился без посторонней помощи, дописав всё же свой opus magnum, «трактат с примечаниями» «Изломанный аршин» о Николае Полевом, которым занимался всю жизнь.
«Впервые я почувствовал, что и не хочу нравиться публике, не стремлюсь быть понимаемым. Я писал «Изломанный аршин», чтобы объяснить какие-то вещи самому себе. Но у меня не было амбиций, что это будет самое значительное мое сочинение. Я всё же больше дорожу романом «Литератор Писарев». Думаю, он по каким-то параметрам лучше, хотя запомнят меня, вероятно, по книге о Полевом».
Никому не в обиду, но Самуил Лурье напоминал великого спортсмена, которому вдруг оказалось выступать негде и который, поддерживая форму, заявился на первенстве водокачки и стартует – Гулливер среди лилипутов – вне зачета: знатоки идут на него, но награды получают перворазрядники.
Последний его известный нам текст – открытая эпистола Герману Грефу, поводом к которой явилась неприятная, но всё же обыденная бытовая коллизия, приключившаяся с сестрой С. А. в одном из отделений Сбера, была написана с присущими С. А. Лурье остроумием и блеском, очередной маленький шедевр. Приводить не буду, желающие легко найдут в сети. Я тогда грешным делом подумал, что слова: «Но все равно, как Вы (и некоторые Ваши починенные) догадываетесь, умираю. И осталось мне от нескольких дней до нескольких недель», – фигура речи. Оказалось, точный прогноз.
«Его жизнь и талант не разошлись во времени, и первого не было без второго. Я понимаю, это слабое утешение, но то, что никто из нас не увидел этого человека с ослабевшим интеллектом и ослабевшим даром – последняя отрада», – отметил коллега и соавтор С. А. Лурье по книге «Письма полумертвого человека» Дмитрий Циликин, тоже ныне покойный.
Последние годы его жизни и работы — закат литературы и письменности, когда Гутенберг проиграл Цукербергу. Впрочем, С.А. Лурье еще 25 лет назад говорил (по другому, впрочем, поводу): «Все равно ее никто не читает, литературу эту». Но все эти годы он, с юности выбравший для себя такой способ жить, «такой способ понимать», писал и жил так, как считал правильным, и никогда не жаловался на судьбу.
Прах С. А. Лурье (12 мая 1942 – 7 августа 2015), согласно его завещанию, развеян на Тихим океаном недалеко от города Пало-Альто (США), где он проживал и лечился в последние годы. Нет кладбища, где можно было бы установить памятник.
А все же некоторое время назад несколько неравнодушных читателей решили такой памятник сделать. В петербургском издательстве «Симпозиум» вышел сборник Самуила Лурье «Техника текста» – расшифровка лекций, прочитанных им в петербургском музее современного искусства Эрарта осенью 2012 года. Подготовка текста Ирины Баклановой, редактор – Светлана Миронова. Верстка Марии Василенко. Дизайн обложки Павла Лосева. Художественный редактор – директор издательства Александр Кононов. Вместе с книгой выпущен диск с записью лекций – спасибо подготовившим диск к печати Олегу Грабко и Анне Соколовой.
Книга и диск вышли попечением двух десятков человек. Благодарим всех.
Отдельное спасибо за глобальную поддержку, как пишут нынче в титрах фильмов, Леониду Петровичу Романкову, Виталию Георгиевичу Сироте, Егору Витальевичу Сироте, Виктору Анатольевичу Шендеровичу.
Фрагменты книги С. А. Лурье «Техника текста» публикуются с любезного разрешения издательства «Симпозиум».
Самуил Лурье. Техника текста:
***
Жизнь моя складывалась так, что первые двадцать или двадцать пять лет меня печатали только по случаю того, что какому-нибудь Микеланджело исполнилось 450 лет. И если заказать специалисту, то он напишет длинно и непонятно, а если заказать Лурье, то он напишет коротко и красиво, — поэтому ладно, пусть напишет, только мы уберем у него пять букв. Всю жизнь до 1991 года меня печатали как «С. Лурье», перестройка вернула мне эти несколько букв. И когда вы берете все равно кого: Стендаля, Микеланджело, я в основном про русскую литературу писал, — смысл писать об этом возникает только тогда, когда вы улавливаете у вашего предмета или у вашей темы какое-то слабое место. Вы должны понять, что не сказано про это. Все сказано, а это — не сказано; так что это довольно близко к тому, о чем говорит Пастернак.
Для этого приходится много читать — например, про какого-нибудь Рубенса сначала все прочитать, после чего вы обнаруживаете то, что вы знали с самого начала, а именно… Я потом попытаюсь разъяснить это подробнее, это трудный момент. Сначала я в этом убеждался с удивлением, а потом привык: то, что я с самого начала хотел сказать про Рубенса, про Сервантеса, про Гончарова, про Пелевина, — я с самого начала это знал, и никто другой этого не написал. Но в этом убеждаешься с огромным чувством облегчения, потому что сначала тебя ужасно тревожит вся эта библиография. Это не потому, что я такой парадоксального и сложного ума человек и обо всем имею собственное мнение. Я просто обнаружил, что каждый из нас, из тех, кто более или менее создан для того, чтобы писать тексты, — а может быть, и каждый человек, просто не каждый доводит это до текста, — каждый из нас имеет некое знание о сути описываемого предмета, даже если мы знаем о нем довольно мало. Это может показаться парадоксом. Но при слове, допустим, «Рубенс» каждый, даже малообразованный, не получивший искусствоведческого образования человек чувствует какую-то вспышку в мозгу. Если тебя запереть в одиночную камеру и сказать: если через десять дней не будет текста, просто не выйдешь отсюда — ты обязательно напишешь, напишешь, просто вспомнишь все, что ты про это думал.
***
Почему мы, глядя на людей, особенно с возрастом, понимаем это с одного взгляда? Потому что мы встречали людей, похожих на этого человека, и с ними у нас происходили разные вещи, они при нас говорили то-то и то-то. Мы можем очень ошибаться, вероятность ошибки тут чрезвычайно велика! Но понять что бы то ни было, не сопоставив, не сравнив, нельзя. Это не аналогия, это нечто иное: должны быть сопоставлены вещи из разных миров. И пересечение миров может случайно создать некий прорыв из этой реальности в ту, где находится истина.
Больше всего на свете я обожаю и считаю признаками гениальности вот такие сравнения и метафоры. Бывают такие метафоры, когда вы сопоставляете не просто человека с человеком, не человека с деревом, не морской прибой с музыкой, нет; дело даже не в банальности, а в том, что надо бы сравнить человека с ситуацией, или предмет со сценой, которая с вами случилась в детстве. Самое простое, что приходит в голову — стихотворение Пастернака «На Страстной». Вот снег там такой: «А март разбрасывает снег / На паперти в толпе калек, / Как будто вышел человек, / И вынул, и раскрыл ковчег, / И все до нитки роздал». Понимаете, как это идет? Вот снег, а вот человек, который раздает милостыню. И на этом пересечении невозможного, казалось бы, сравнения, возникает этот голос и то, ради чего это написано — а написано про Пасху, про Воскресение, про абсолютную раскрытость — вот здесь она и возникает. Это мы все еще идем к тому, с чего начинается текст. Начинается всё с этой охоты. Мы смотрим, мы думаем, мы чувствуем, мы пытаемся понять, вспомнить, на что похоже то, про что я хочу сейчас сказать, про что я думаю. Пока я не пойму, на что это похоже, я, собственно, не пойму, что я про это думаю. Потому что думаем мы, пробираемся к сути вещей всегда через другие вещи.
***
Пошлость с Блоком пошутила очень злую шутку. Он это чеховское ощущение превратил полностью в отчаяние. «И стало все равно, какие / Лобзать уста, ласкать плеча, / В какие улицы глухие / Гнать удалого лихача…»8 — весь этот ужас, на который можно ответить только алкоголем, несчастьем, погружаясь все больше и больше в глубину несчастья… «Средь этой пошлости таинственной, / Скажи, что делать мне с тобой — / Недостижимой и единственной…». Прошло сто лет, и теперь вы читаете Блока и с удивлением и горечью обнаруживаете, что пошлость пробралась в сами его тексты. Что эта его страсть — на самом деле истерика. «В какие улицы глухие гнать удалого лихача» — это, конечно, очень красивые стихи, но только если его так слушать, как я всю жизнь. А если представить: господин в бекеше в спину погоняет одетого в красный армяк кучера, и так далее — вдруг сразу становится не трагично, а чуть-чуть смешно. У меня лекция, к счастью, не о Блоке, но я, к сожалению, мог бы показать, что очень большое количество его текстов разъедено пошлостью как ржавчиной. Они выглядят теперь фальшивыми, что и можно понять: чувства испытанные, реальные, описанные в первом томе, он затем все время пытался воспроизводить. А воспроизводить чувства — это почти имитировать их. А там, где мы имеем дело с имитацией чувств, мы непременно имеем дело с пошлостью.
Это еще и было связано с историей нашей страны. От того, что жизнь до такой степени пошлости дошла, такие люди, как Блок — люди, впавшие в отчаяние, — наслаждались чувством катастрофы, вдохновлялись этим чувством. Они дожили до Октябрьской революции, которая, казалось бы, должна была со всей этой пошлостью покончить, с мещанством как классом. И дать обществу идеалы. И там происходили забавные вещи.
Поначалу так и было задумано. По крайней мере, некоторые идеологи думали: мы заменим пошлый мещанский идеал достатка, благополучия, личного счастья — каким-нибудь высоким. Счастья всего человечества, например, справедливости для всех, братства и товарищества. Но это не очень получалось. Хотя, скажем, в романе Платонова «Чевенгур» странным образом мы видим примерно те же самые рассуждения, что и у Чехова. А именно: почему люди плохо друг к другу относятся? Из-за собственности. А чем создается собственность? А собственность создается трудом. А для того чтобы мы все были братья, надо перестать трудиться. Нужно обняться, лечь в лопухи и умереть. Социализм, пишет Платонов, это любовь к смерти, и только смерть нас освобождает от житейской пошлости. Поскольку это невоплотимый идеал, сначала все это было очень мило, на уровне бытовой борьбы. Новая молодежь должна была бороться с мещанством в себе: такие-то брюки некрасивы, носить галстуки нехорошо, пользоваться губной помадой — мещанство, ну и так далее. И слово «пошлость» сначала очень бодро вошло в советский оборот как обозначение одного из родимых пятен капитализма. Пошлый человек — это человек, который все еще верен каким-то буржуазным предрассудкам. На этот счет у нас есть драгоценное свидетельство поэта Олейникова, у него есть такой замечательный стишок: «Когда ему выдали сахар и мыло, / Он стал домогаться селедок с крупой. / …Типичная пошлость царила / В его голове небольшой».
***
Одно время я считал, что почти решил задачу перехода, а именно: пусть его не будет вообще. Вот написал абзац, а теперь пишу другой, и пускай читатель угадывает, какая там у меня связь. Что я, виноват, что ли, что у меня не получается второй абзац? Я пишу сразу третий, пускай второй будет пропущенным. Кстати говоря, Пушкин в «Онегине» тоже ведь это делал, функция пропущенных глав отчасти и эта тоже. И когда я последнюю свою книжку писал, «Изломанный аршин» — я, честно сказать, втайне писал про себя, среди прочего, — потому что настоящий текст не трехслойный, а пятнадцатислойный, двадцатислойный… Не следовало бы мне настолько откровенничать, это нескромно, но я в самом деле думал, что по крайней мере расположение глав, так называемых параграфов этого «Изломанного аршина», сделано по принципу строф «Онегина». Да, вот это — про это, а это — про это, а это — вообще еще про это, и я не обязан вам отвечать, почему между первым и третьим существует вот этот второй параграф, а не какой-нибудь другой. Но это тоже не решение, на самом деле каждый раз решаешь это заново.

 Дзен Мойка78
Дзен Мойка78

 Телеграм мойка78
Телеграм мойка78